
Посвящается художнику Хиральдо Антезана
Пейзаж разбегается во все четыре стороны деревни, как морщины по старческой ладони. Ветер дует в лицо, вырывая слёзы из глаз. Из-за него лучше наклонять голову, чтобы идти как можно быстрее. Пампа, подступающая к деревне со всех сторон, сжимает её и иссушает. Пейзаж выражает одиночество и сиротливость. Ветер царапает навесы, вырывая их со спокойствием ведьмы и бросая прямо в грязь, предварительно измочалив.

Лучше никого и ничего не видеть, и идти с закрытыми глазами к двухэтажному дому под единственной в деревне кичливой разноцветной вывеской на выцветшей доске.
Когда по широкой, пересекающей деревню улице проходит грузовик, пыль делает воздух непригодным для дыхания, вынуждая его нагнуть голову и пытаться закутать её в шарф, размотавшийся от ветра.
Но он не может поставить на землю чемоданы, которые несёт, поскольку это значило бы остановиться и задержать прибытие в дом, который один на всю деревню покрашен в лазурный цвет, и вообще - единственный, хоть как-то покрашенный.
Теперь, внезапно, он хочет остановиться, но не чтобы дать отдых рукам, а чтобы подумать немного о том, что собирается сказать или сделать, или о том, что вот он достиг деревни (или, лучше сказать, вернулся), но уже понимает, что это не имеет большого значения, ведь ни раскаяться, ни измениться он так и не смог.
Холод потихоньку проникает в щели швов на перчатках; шарф начинает походить на знамя, реющее в воздухе и едва удерживаемое его челюстью, начинающей неметь от давления в грудь и ударов холодного ветра.
Здесь ему надо остановиться, чтобы взглянуть, хотя бы на мгновение, на фасад дома, кажущийся теперь серо-лазурным и удручённым, как и всё, что он встречает в этой деревне. Вывеску (которая раньше сияла надменными буквами) уже не расшифровать с уверенностью; скорее, её можно интерпретировать, как "Бергель" (цветник - исп.), "Отель" или что-то наподобие, поскольку время захотело сохранить в ней лишь контуры последних букв.
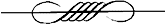
Он легонько разминает руки, шевеля пальцами, как усталыми танцорами, прежде чем подойти к двери и энергично стукнуть. Никто не отвечает. Он поворачивает голову и видит, как волна ветра вылетает из деревни, чтобы разлиться вширь по пампе. Рука, повисшая в воздухе выражает нетерпение, теребит шарф и вновь стучит в дверь, ещё энергичнее. Внутри, кажется, слышен шум кого-то, двигающегося с трудом. Его сердце чуть вздрагивает, и начинает заполнять его своего рода детским беспокойством и ожиданием, гораздо сильнее, чем он мог себе это представить ранее. Он смотрит в другую сторону деревни, и там, в глубине улицы, на границе всё с той же пампой, видит человеческую фигуру, которая движется, подталкиваемая ветром. Сложно сказать, мужчина это, или женщина, или (если бы подобное было возможно) двуполое существо, движимое ветром в эту тёмную и призрачную деревню.
Шум внутри медленно нарастает, и рука, чтобы занять себя делом, на этот раз разглаживает сомбреро, которое по пути со станции изрядно помялось. Дверь начинает медленно отворяться, и первое, что он видит - это палец, серый и землистый, как будто отделившийся от самой земли, с жёлтым и потрескавшимся ногтем, который наводит на мысль о преждевременной подготовленности этой части человеческого тела к смерти. Потом - уже вся рука, тянущаяся к краю двери и напрягающаяся, чтобы открыть её. Но это напряжение выглядит обречённым на неудачу, и он, видя эту печальную и сухую руку, не может отделаться от мысли, что это намерение невыполнимо. Поэтому он решается пробормотать какие-то слова извинения или вежливости, и подталкивает дверь, которая издаёт протестующий стон, открывая лицо владельца руки. Лицо это - пригоршня изящных морщин, расположенных так искусно и спокойно, что, кажется, нет случайности в расположении ни самой мельчайшей из них; каждый кусочек кожи наделён своей собственной морщиной.
Он хочет отступить на шаг и произнести какое-нибудь извинение (к примеру: "я ошибся, простите") но уже поздно, потому что старец простирает руку, жестом показывая, что можно пройти в дом. Более того: движением, которого никто не мог бы ожидать от этого существа, уже подцепившего булыжник, живущий в его плоти, он бросается к чемоданам и пытается поднять их с земли. "Для Вас это чересчур. Я сам", - говорит он, и тот смотрит на него глазками, полными таких безнадёжности и бессилия, что он не находит, что сказать, и лишь добавляет: "Пожалуйста".
Старец подходит, чтобы указать на стул и стол. Ему не нужно усилий, чтобы донести до своего сознания, что вся жизнь этого старца прошла взаперти, в огромном зале, украшенном календарями за разные годы и огромными фотографиями артистов; из всего этого продолжает выделяться (конечно же, посеревшая) огромная афиша пропагандистского фильма о войне: трое солдат с трудом продвигаются среди остатков траншей и грохота взрывов.
"Это я, Луисита."
"Кто?"
"Самый большой."
"Но это я такая."
"Но ведь я больше."
"Идём убивать врагов."
Старец исчезает, чтобы вернуться с бутылкой и стаканом. Кажется, что он не хочет узнавать ни о чём, предвидя всё и так. "Похолодало", - говорит он, и c невероятным усилием открывает бутылку.
Он садится, и уже теплее смотрит на старца, который разливает выпивку такой дрожащей рукой, что он едва ли может представить, что тот сможет когда-нибудь её разлить. Поэтому он протягивает руку и трогает ею выпивоху, и тот поднимает горсть морщин и пристально смотрит на него своими двумя немного удивлёнными глазками. Его пробирает мертвецкий холод, и хочется сказать, что невозможно, чтобы это был он, что невозможно так измениться за столь короткий... "Но нельзя же сказать, что сорок лет - короткий срок", - говорит он. Старец продолжает удерживать бутылку, с усилием стараясь понять. "Готово", - наконец говорит он, и выпивоха, похоже, оживляется и ставит бутылку на стол.
Горящий ликёр входит в горло, а потом даёт успокоение всему телу. Он согревает изнутри, и придаёт ему духу, чтобы предложить старцу усесться и поднять рюмочку. Но тот уже больше не может составить в этом компанию, хотя и участвует: для того, чтобы он смог, таким образом, узнать то, что хочет.
Он наливает себе другую рюмку, опрокидывая её в горло с неистовством жаждущего. Начинает рассказывать о своих впечатлениях от деревни. Конечно, они печальны, и в этом старец с ним согласен; хотя, если посмотреть на железнодорожную станцию по воскресеньям, то вид деревни может показаться даже весёлым из-за множества людей, приезжающих издалека, на базарный день.
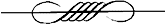
Тепло от третьей рюмки ощущается уже меньше, и если сеньор позволит, он снял бы шарф. Глазки старца выражают согласие. Но теперь он спрашивает, меняя тему: как можно поддерживать отель в этой, совершенно необитаемой на вид, деревне? Это первый вопрос пришедший ему в голову. И старец ему не удивляется, поскольку это правда, и он сам не может с уверенностью сказать, что здесь есть нечто живое помимо него, ибо теперь он остался один...
"Один!", - восклицает он наконец, не зная, что сказать перед удивлённым взглядом старца, наливая следующую рюмку и тут же опустошая её одним залпом. На этот раз попадание в глотку уже не ощущается.
И образ старца размывается, как эти картины, нарисованные плохими красками, которые уже не сопротивляются натиску света и времени.
"Она тоже умерла". Слова повисают в воздухе огромной комнаты. Лицо погружается в море морщин, в котором пропадают сначала глазки, затем - рот и брови, и больше не остаётся ничего, кроме своего рода горсти новорождённого. Им овладевает чувствобесконечного сострадания, и он поднимает руку, чтобы положить её на плечо старца. Тот немного встряхивается и судорожно трёт руками комок морщин до тех пор, пока в нём вновь не появляются, последовательно, брови, рот и глазки.
"Потом ушла Луиза, моя племянница, и я остался один", - говорит старец. Он хочет расспросить в деталях, но сдерживается и делает очередной большой глоток. Образы на фотографиях мало-помалу искривляются. Теперь эти трое солдат, кажется, движутся с трудом, склоняясь, чтобы лучше слышать слова детей, которые показывают от пола:
"А я - досюда, самый большой".
"А я стою на скале".
Или другие слова, на этот раз - уже не о них, и не слова для детей:
"Я вернусь, Луиза. Клянусь тебе в этом".
"Нет. Ты никогда не вернёшься. Ты ненавидишь нашу деревню".
"Я хочу жить лучше. Ветер душит меня".
"Поэтому ты и не вернёшься".
"Я хочу увидеть деревья и дома, которые примут нас с объятиями, как невесты".
В комнате бушует вихрь голосов, скапливающихся по всем углам, реющих в этом навечно застоявшемся воздухе и прилипающих к стенам, на которых время сконденсировалось в маленькие жёлтые капли и начинает плакать зигзагообразными потоками. Он не знает, что делать с этим скрытым грузом.
"И, прежде всего, мой сын. Умер мой сын". Эти слова удерживают лавину. Ещё мгновение кажется, что в вихре возникла пустота, маленькая полость. "Сын?" - спрашивает он. Старец отворачивает лицо, чтобы скрыть слёзы в странном взгляде, и утвердительно кивает головой: "Мой сын умер на чужбине". Образы на стенах вновь начинают колыхаться, а голоса - бороздить воздух холодными течениями. Солдаты, возобновляя свой утомительный бег в сторону врага, приоборачиваются, чтобы услышать слова старца.
Он подготавливает себе очередную рюмку выпивки, прилагая усилия, чтобы справиться с затычкой в бутылочном горлышке. Огромный зал вынужден расшириться, чтобы вместить столько испарений прошлого. Он и не знает, чему уделять внимание: словам старца, или вынужденному маршу трёх солдат, или же голосам, которые проникают повсюду. Он чувствует, что терпит поражение в этой чрезмерной мешанине. Протягивает руку, чтобы взять стакан, который как будто хочет ускользнуть в немой агонии. Ликёр немного освежает, оживляя и успокаивая атмосферу, принявшую безумные пропорции. Он закрывает глаза и хочет заснуть, чтобы проснуться в другом мире, вдалеке от глазок старца, от деревни, от силуэта Луизы, которая именно в этот момент тщетно остановилась в дверях, чтобы повернуть голову и посмотреть на него перед тем, как направить свои шаги к станции.
"Это он, мой сын, который умер", говорит старец и протягивает пожелтевшую фотографию, которая едва не взлетает в воздух, как состарившаяся бабочка, с опаской присевшая на окаменевший цветок времени (руку старца). Он качает головой, чтобы лучше разглядеть фотографию, и в свете очага, подвешенного в безоблачном небе, едва различает выпрямившегося юношу с вытянутой шеей, рядом с девушкой, которая положила руку на плечо сеньоры, улыбающейся с провинциальной робостью, стоя (возможно, впервые) перед этим устройством, таким таинственным и угрожающим. Палец старца обводит лицо юноши, многократно закрывая его, и останавливается на голове этого мальчишки, закрыв её полностью. "Это он", говорит старец. Он не знает: сказать что-нибудь, или отвернуться, что было бы невероятно неуважительным действием... "Луиза", -говорит старец, приближая глаза к фотографии и погружаясь в неё, теряясь в своём созерцании; отодвигая карточку из поля его зрения, чтобы подержать двумя руками прямо перед собой, для пущего удобства поставив на стол.
Он ощущает небольшое оживление и делает очередной глоток из бутылки (на этот раз, игнорируя помощь стеклянного стакана, который затерялся в забвении). Он вновь чувствует себя вплывающим в эту реальность сплетений и шума, который кажется королём этого огромного зала. В некоторые моменты, неизвестно откуда, доносится голос старца. "Она и я... я". Он хочет пойти в уборную, поскольку находится в плохом состоянии. Он что-то спрашивает, и старец выпрыгивает из какого-то угла, представая перед ним, вызывая проводить, и предлагая следовать за ним.

Старец стоит со свечой в руке. Его маленькое лицо и колышащийся свет свечи приобретают гротескный облик, раздувающийся, как глобус, готовый лопнуть в любой момент.
Рука, защищающая пламя, кажется отчеканенным в ночи обрубком с инструментом живого огня, остающегося в своих естественных границах. Тело старца, который идёт, почти нагнувшись над свечой, наводит его на мысли об иллюстрациях к волшебным сказкам, в которых домовёнок проводит потерянных детей в пещеры: тёмные, сырые и переполненные живыми виноградными лозами, свисающими со скал.
Он останавливается, и видит, как домовёнок укрощает свои движения, порывистые, как у персонажей немого кино, которые, кажется, никогда не бегут, а вместо этого легко прыгают.
Он хочет закричать старику, чтобы тот остановился, так как боится заблудиться в этих бесконечных коридорах и галереях, которые бегут, запутываясь всё больше и больше, но домовёнок уже исчез на каком-то повороте, оставив его свободным наудачу.
Он стоит, утомлённый, среди темноты, прислонившись к двери, которая начинает отодвигаться. Кто-то внутри комнаты удивляется и что-то спрашивает. Этот голос - женский. Тогда он толкает дверь, и говорит, предполагая: "Луиза?". Внутри никто не слушает, но кто-то тяжело дышит. Он чувствует нарастающую с каждым разом необходимость получить ответ, и вновь спрашивает, ещё громче: "Луиза?". Особа в комнате лёгким покашливанием прочищает голос, и спрашивает, не он ли это вернулся. Он хочет броситься внутрь, но дверь уже не уступает, сопротивляясь со злорадным упорством. Он просит кого-то внутри помочь ему. "Ты, всё-таки, вернулся?", - говорит она. - "Конечно", - отвечает он. - "Ты вернулся", - говорит голос.
Дверь так и не открылась, и голос уже не отвечает. Он чувствует, что это усилие лишило его последних сил, и падает, как умирающий шут, прямо на дверь. Тут он мог бы поспать, пока не наступит день, но он боится зажжённой свечи старца. "Оставайся здесь", говорит тот.
Он опирается на стену, чтобы подняться, и в свете свечи становится видно, что дверь закрыта снаружи на висячий замок. Он смотрит выпученными глазами на старца, который, молча, начинает уходить. "Подождите", говорит он, и делает два прыжка, чтобы остановить старца. "Здесь кто-то есть".
Старец останавливается и удивлённо смотрит на него. Медленно поворачивает голову. "В этом доме есть лишь вы и я", - говорит он снисходительным тоном тому, кто понимает всё происходящее.
Он склоняет голову и следует за старцем. Старец опять заговаривает. "Мой сын умер на чужбине. Я живу лишь для того, чтобы молиться за его душу." Он чувствует, что ликёр понемногу выветривается. "Знаю, что там, где он сейчас, я ему полезен", говорит он, и поднимает свечку выше своей головы. Он останавливается и указывает на приоткрытую комнатушку. "Я жду", говорит он. Он склоняет голову и входит в комнату, и ему говорят, что всё уже выдохлось, как ликёр, и что не стоит ничего объяснять, что старец будет так, со свечой в руке, шептать свои молитвы, пока он не вернётся, и что не стоит разрушать его иллюзию служения своему сыну (теперь уже окончательно) своими молитвами, и что он (сын), в мире, в котором он находится, уже наверняка будет нуждаться в них.
Ренато ПРАДА ОРОПЕСА (1937). Писатель и литературный исследователь. Живёт в Халапа (Мексика). За новеллу "Основатели зари" (1969) получил Премию Дома Америк на Кубе и Национальную Премию за Новеллу Эрика Гуттентага в Боливии. Другие публикации: "Argal" (1968), "Его уже никто не ждёт" (1969), "Последний рубеж" (1975), и эссе "Литературная независимость" (1976).
Источник: boliviaweb.com
esp->rus: Д.К. (shogi.ru), октябрь 2007.
Редактура: К.О., декабрь 2008.